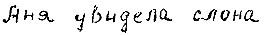
© 1998, Ревекка Марковна Фрумкина.
В Эдинбург я попала по счастливой случайности. Русская мечта - увидеть Париж, а вовсе не Эдинбург. Так что я хотела не столько попасть в Эдинбург, сколько попасть туда на международную конференцию по проблемам сходства. (Впрочем, об Эдинбурге стоит мечтать, о чем речь пойдет отдельно.)
Но разве сходство вообще, сходство как таковое может быть предметом научных дискуссий? Мы ежеминутно, сами того не подозревая, имеем дело со сходством и различиями - причем тут наука?
Вопрос не праздный. Однако коротко на него трудно ответить. Загвоздка в том, что в окружающем нас мире не существует сходства вообще, сходства как такового. Это мы с вами решаем, что вот эти два цветка, два облака, три буквы, несколько разноцветных мотков шерсти, вот эти мелодии или эти лица похожи. Или непохожи. Как именно мы это делаем, из чего исходим - наука до сих пор толком не знает. При всем том ученым известно о сходстве достаточно, чтобы осознавать насущность проблемы, писать на тему сходства и различения статьи и книги. Наконец, созвать конференцию.
Я занималась разными аспектами сходства тридцать лет. Поставила много экспериментов и написала несколько книг. Обсуждала возможные интерпретации сходства с замечательным советским ученым М.М. Бонгардом - его книга ''Проблемы узнавания" (1967) и сегодня кажется мне самым глубоким исследованием этой неисчерпаемой проблемы. (Подробно о М.М. Бонгарде см. в моей книге "О нас - наискосок", Москва, 1997.) Конечно, раз уж решили вместе собраться те, кто занимается именно сходством как таковым, будь то сходство предметов или сходство мелодий, мне крепко захотелось "на других посмотреть и себя показать". Это желание сбылось. В том смысле, что я поехала в Эдинбург с докладом.
Изучение сходства как такового - увлекательное и даже азартное занятие. Наука вообще азартное дело. А если азарта не чувствуешь, то, на мой взгляд, надо менять профессию. Впрочем, как и в игре, азарт не помеха расчету. Итак, чтобы читатель мог ко мне присоединиться или, напротив того, решить, что дальше читать не стоит, я расскажу немного о том, почему сходство - это научная проблема.
Часто случается, что наличие определенных структур и механизмов осознается нами только при условии, что механизм отказал или структура нарушена. Разве мы думаем о том, что наша одежда имеет швы, то есть состоит из кусков ткани, скрепленной в определенных местах нитками? Нет, разумеется, - но ровно до того момента, пока платье не рвется по шву, а брюки надо распороть - это, кстати, обычно и означает "разъединить по швам". Физически швы существуют вне зависимости от того, думаем мы о них или нет. Но до поры до времени они как бы не существуют "для нас".
Неповторимость каждого человеческого лица тоже вполне объективный и общеизвестный факт. У одних людей память на лица лучше, у других - хуже. но никого не удивляет наша способность различить знакомое лицо в толпе. Даже через много лет мы узнаем лицо старого товарища в групповой фотографии какого-нибудь пятого "Б" класса.
А теперь представьте себе такую картину. Больница, хирургическое отделение. В палату входит медсестра и говорит больному : "Петр Сергеевич, к Вам пришли". Вслед за ней появляется мужчина в белом халате внакидку и со словами "Петя, наконец-то!" пытается обнять больного. Последний с недоумением отстраняется: "Простите... Вы новый доктор?"
Больной увидел только человека в белом халате. То есть физическито - глазами - он все увидел, поскольку зрение у него сохранно. Узнал же только халат, но не лицо - лицо своего брата.
Это специфическое расстройство узнавания - "агнозия на лица" - было описано очень давно. Оно получило отдельное название не в силу уникальности механизма, обеспечивающего узнавание данного лица в отличие от любого другого, а из-за социальной значимости поломки этого механизма. Для человека с "агнозией на лица" похожи не только все лица, но все яблоки - с красным бочком и без, все чашки, все двери - если только он не придумал для себя какой-то особой "приметы" вроде выщербленного края чашки.
Такой больной видит каждую часть лица - нос, рот, глаза, не путает изображение лица с изображением циферблата часов или цветка ромашки. Но недоступным является синтез целого из частей. Впрочем, откуда подобное умозаключение? Что значит в данном случае "синтез"? Разве здоровые люди, чтобы узнать знакомое лицо, поступают как гоголевская Агафья Тихоновна - узнают нос, приставляют к нему губы, сравнивают?.. Конечно же, нет. А как? Вот этого мы как раз и не знаем.
Истинная сложность проблемы сходства стала ясна тогда, когда оказалось, что мы не можем "передоверить" вычислительной машине операции, с которыми справляется первоклассник. В детской книжке напечатано: Аня увидела слона.
Умеющий читать и писать ребенок вполне уверенно пишет ту же фразу в соответствии со школьными прописями так:
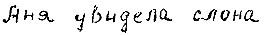
Но ведь заглавное "печатное" А совсем не похоже на строчное "печатное" а - скорее оно напоминает "печатное" Л. На "письменное" а из школьных прописей А и а и вовсе не похожи. Рукописное у куда больше похоже на рукописное д, чем на печатное У. А заглавное Е "печатное" с тремя горизонтальными палочками вообще не напоминает ни одну букву из школьных прописей. Добавим, что печатный шрифт с серифами ("засечками"), т.е. шрифт, которым набрана данная статья, довольно сильно отличается от так называемой "рубленой гарнитуры", которым набран приведенный выше пример. Ребенку это не мешает, компьютер же с такими различиями справляется плохо.
В обычных условиях взрослый здоровый человек относит А и а к одной и той же категории "буква а", не обращая внимания на детали написания. Если же подобная задача превращается в ребус, то человек этот, скорее всего, страдает агнозией - у него нарушена работа некоторых мозговых структур. Ибо в норме, научившись читать, мы уже не смотрим на "хвостики" и толщину линий: все это несущественные мелочи.
В конце 60-х М.М. Бонгард очень точно определил суть проблемы сходства и узнавания, указав на то, что вне конкретной ситуации бессмысленно говорить о существенных и несущественных признаках объектов. Но понадобилось без малого еще тридцать лет, чтобы создать компьютерную программу, которая может "читать" любой текст, в том числе - рукописный, устанавливая тождество всех а, всех у, всех д путем выбрасывания несущественных деталей. Вообще-то мы отлично умеем на многое не обращать внимания. Скажите, сколько зубцов у обычной вилки? Какова глубина черпака у столовой ложки? Вот вы только что поставили на газ чайник, коробок спичек отправили на его обычное место - а что на коробке нарисовано? Не помните? И правильно: зачем вам это помнить? Мы не замечаем год чеканки монеты, картинку на спичечном коробке, заводское клеймо на электрической лампочке и оттенок цвета почтовой марки. Мы имеем дело с вилками, ложками, коробками спичек, лампочками и марками как таковыми - для этого достаточно ВИДЕТЬ, что это вилка, а не нож, гривенник, а не двадцать копеек, лампочка 60 ватт, а не 40 или 100, где бы эту лампочку ни изготовили.
Итак, нам не нужны бесполезные "для дела" признаки и без того знакомых предметов. Именно бесполезные "для дела" - потому что вне конкретного "дела", то есть данной задачи, не бывает признаков полезных и бесполезных. Глаз коллекционера или контролера качества имеет иную застройку - впрочем, глаза тут не при чем, поскольку они у нас устроены одинаково. Штука в том, что именно мы хотим и готовы усмотреть в каждом конкретном случае.
Известно, что там, где обычный человек видит ткань черного цвета, текстильщик различает как минимум 16 разных оттенков черного - это имеет прямую практическую ценность. Врач видит не вообще бледность, но бледность с желтоватым оттенком, восковую бледность, синюшную бледность и т.д. Поэтому верна мысль, что мы видим не глазом, а мозгом. Но это и значит, что представления о сходствах и различиях не заданы нам изначально. Они формируются в процессе приобретения опыта и представляют собой сложные познавательные операции.
Мнения о сходстве или несходстве сильно зависят от контекста - то есть от конкретной ситуации и целей сравнения. Я встретила семилетнего мальчика с мамой и нашла, что они похожи; моя соседка видела его с мамой и бабушкой, и говорит, что ребенок весь в бабушку, даром что мальчик. И обе мы правы. Впрочем, правы ли? А отец? А другие родственники?
Человеческий мозг работает предельно эффективно и экономно. Именно поэтому он совсем не заинтересован в накоплении максимума возможной информации об объекте: это как раз и означало бы, что я "вижу" не просто гривенник, но гривенник определенного цвета и размера, с такимто рисунком и таким-то годом выпуска, - а что мне от того? Одна морока, скажет всякий, на чьей памяти менялись монеты и банкноты.
Итак, мы умеем видеть "полезное" и отвлекаться, не замечать "бесполезное" для решения данной задачи. Но всегда ли можно четко сказать, в чем состоит задача?
Нас окружает мир, неисчерпаемый в своем многообразии. Но это, если угодно, " в теории". На практике же мы живем не вообще в мире, а в городе или в деревне, в определенном доме, квартире, в комнате с высоким или низким потолком и т.д. Соответственно мы и привыкаем говорить о своем окружении с нужной степенью обобщения или с нужной мерой детализации. Если ваш ребенок вообще не ест суп, то он скорее всего и не будет спрашивать, что сегодня - лапша или щи, поскольку для него и то, и другое - прежде всего гадость. А сами вы, положим, не любите карамель, так что вам не слишком понятно, почему одни предпочитают "раковые шейки", а другие - "лимонную". Кстати, любители "раковых шеек" свои предпочтения описывают довольно невнятно - и это неудивительно. Вкус и запах - будь то чай, кофе или духи - вообще очень трудно описать. Вспомните, в какое затруднительное положение попадают герои рекламы жевательной резинки: им же надо сказать, чем именно вкус Ригли Джуси как-там-её отличается от вкуса всех прочих жвачек.
На самом деле профессиональные дегустаторы и парфюмеры пользуются специально разработанным языком. Ведь в качестве экспертов они имеют дело с принципиально иными объектами, чем мы с вами - обычные потребители чая, кофе и духов. Для экспертов нет чая или кофе "вообще" - есть несметное число сортов, и каждый характеризуется композицией большого числа признаков. А мы не умеем разлагать аромат чая или букет вина на составляющие - чай должен быть ароматен, а вино - иметь букет. Но это не мешает нам говорить, что определенные вина или сорта чая похожи друг на друга, хотя, в отличие от ситуации с буквами или монетами, мы не можем объяснить или обосновать наши мнения.
Итак, одно дело - отождествить объект как единственный в своем роде (лучший пример - это знакомое лицо); другое дело - сравнивать объекты как похожие или не похожие в терминах признаков, полезных для данной задачи (так мы поступаем, среди прочего, с монетами и почтовыми марками); и совсем иное - сравнивать нечто, что вполне сопоставимо, но плохо описывается словами - как вкус или запах.
Я надеюсь, что теперь читатель согласится со мной, что изучение сходства - дело заманчивое, хоть и не простое. Ясно также, что установить, что вот этот предмет похож на тот - все равно, что заглянуть в щелочку и воскликнуть "Э, да там что-то есть!" На самом деле любопытно узнать, что именно там есть - иными словами, какие свойства объектов человек способен учитывать, дабы затем объявить их похожими или не похожими.
В частности, при сравнении слов неплохо бы учесть мнение лингвиста, а при сравнении мелодий - позицию музыковеда. О чае, винах и кофе мы уже говорили. Есть еще попытки автоматизировать процессы сравнения и отождествления, и это отдельная группа задач. А значит, хорошо бы созвать людей разных профессий и послушать, что они могут сказать друг другу. Что и было сделано сотрудниками Эдинбургского университета.
Каждый год несколько крупных научных издательств из Англии и Америки присылают мне каталоги новых журналов, посвященных изучению познавательных процессов. В мире журналов становится все больше, а в российских библиотеках их все меньше. Разумеется, что-то доходит. Но когда давно работаешь в науке, то понимаешь, что тебе доступна не картинка в целом, а ее случайные фрагменты, наподобие кусочков картона, ненароком забытых в коробке от игры "сложи".
Читать все журналы даже в области, связанной с языком и познанием, уже давно невозможно. Но чтобы иметь возможность выбора, сегодня надо много ездить и иметь постоянные личные контакты с иностранными коллегами. Я езжу редко, а в Америке и вовсе не была. Это позволяет мне сохранять надежду на то, что там, где библиотеки ломятся, да еще есть прямой обмен новыми текстами через Интернет, науки процветают.
Может, оно и правда. Может, сегодняшняя англоязычная психология всего лишь печальное исключение. Так или иначе, впечатления мои - в основном безрадостные, в Эдинбурге лишь подтвердились.
Впервые и всерьез огорчилась я в Австралии, когда в докладе на кафедре психологии в Сиднее сослалась на классическую работу Миллера "Магическое число семь плюс минус два". "Это какой Миллер?" - спросил меня один из присутствовавших. Миллеров и вправду несколько, поэтому я ответила "Джордж" и написала на доске полное название работы и дату ее публикации - 1956 год. Недоумение аудитории достигло критической точки: "Это же было так давно!" - отозвалось уже несколько голосов. Тут я поняла, что попала в мир, существующий в иных координатах: в Москве о "магическом числе семь" (не о Миллере, конечно) знали многие образованные люди, далекие от психологии.
Сходные впечатления остались и от нескольких международных конференций. Во-первых, проблема (неважно, какая - лингвистическая или психологическая), которой занимаются мои коллеги, большей частью представлена как набор мнений (результатов) узкого круга цитируемых лиц, принадлежащих одному научному кружку - чаще всего, одной-двум лабораториям. Американцы действительно читают только себя. Во-вторых, за конкретной задачей не угадывается никакой исторической глубины, даже если предметом изысканий является феномен из истории науки.
Известно, например, как высоко американцы ценят Выготского. Лев Семенович Выготский, умерший в 1934 году, безусловно, был и остается знаковой фигурой для психологии XX века. Но "бум" вокруг Выготского возник в США только после 1962 года, когда его книга "Мышление и речь" (впервые изданная в Москве в 1934 г.) вышла в английском переводе. Да, у нас странно быть ученым и не читать по-английски, американцы же (если они не слависты) не читают по-русски. Но Выготский еще при жизни печатался по-английски и по-немецки, и уж ничто не мешало издать ту же книгу (или другие сочинения) Выготского по-английски не в начале 60-х, а десятью или пятнадцатью годами раньше.
С другой стороны, неужели вся ученая Америка только после 1962 года начала понимать, что значение формируется в результате взаимодействия и общения? Между прочим, основатель современной культурной антропологии Бронислав Малиновский писал по-английски, и уж после его трудов, т.е. в 30-е годы, было вполне ясно, что человек создается прежде всего культурой, а не природой.
За полгода до конференции в Эдинбурге я послала нескольким американским ученым из числа будущих участников электронные письма с просьбой прислать мне оттиски их работ. Мне представлялось, что так я смогу лучше подготовиться к возможным дискуссиям. Увесистые желтые пакеты с оттисками, пересылка которых безотказно оплачивается всеми научными учреждениями мира, кроме наших, прибывали все лето. Чем прилежнее я читала, тем грустнее мне становилось.
Несколько очень толковых обзоров не могли изменить общего ощущения механистичности мышления, фрагментарности подходов, обнаруживающих не то нежелание увидеть лес за деревьями, не то неумение это сделать. Решающая роль культуры и целеполагания на уровне повседневной деятельности никем не отрицается и даже подчеркивается. Но этот тезис часто напоминает оставшиеся в нашем советском прошлом обязательные ссылки на то, что "еще Маркс (Ленин, Дарвин, Павлов...)". Потому что после вводной части проблема того, как мы на самом деле сравниваем и принимаем решения о сходстве и различии, что для нас значимо и почему, будет подменена проблемой переработки информации о признаках сравниваемых объектов с помощью очередной компьютерной программы. Уже в Эдинбурге я услышала, как один американский исследователь (очень яркий) предлагал своим испытуемым, говорящим на разных языках, сравнивать упаковки, в которых продается молоко, шампунь, соки, прохладительные напитки и прочие обычные товары. Его интересовало, как будут названы эти упаковки. В русском варианте это был бы выбор между словами бутылка (пластиковая), флакон, коробка, пакет, банка и т.п.
Я поинтересовалась, как он минимизировал влияние содержимого на называние упаковки? Ведь по-русски мы продолжаем говорить "пакет молока" из-за того, что это привычное сочетание слов, хотя молоко теперь продается в картонных упаковках, по форме не отличающихся от упаковок с соком и даже от коробок с печеньем. Аналогично, если в стеклянный сосуд вытянутой формы помещен растворимый кофе (например, так выглядит гранулированный кофе марки "Якобе"), мы скажем "банка кофе", но если примерно в таком же вместилище будет продаваться шампунь, то мы попросим две бутылки шампуня, а не две банки. В других языках и культурах, скорее всего, иные сочетания окажутся стереотипными. Как с этим быть?
А никак. Оказывается, мой собеседник в инструкции просто попросил не обращать внимания на содержимое. И свято верил, что этого достаточно, чтобы участники эксперимента действительно забыли о том, что в одном сосуде - пиво, а в другом - шампунь.
Другой не менее славный молодой человек рассказывал, как люди поступают при сравнении объектов, где можно выделить разные значимые части. Для этого он сконструировал условные изображения существ, напоминающих бабочек. "Бабочки" эти были идентичны по структуре и размеру: все они имели крылышки, голову, тельце, усики и хвост, но эти части отличались формой и раскраской: у одной "бабочки" голова квадратная, у другой - треугольная, у двух других головы одинаковые, но у одной тельце в клеточку, а у другой тельце в горошек и т.п.
Оказалось, что при таком "раскладе" люди сравнивают крылышки с крылышками, тельце с тельцем, усики с усиками, а не подбирают горошек к горошку и клеточки к клеточкам. Меня крайне удивило, что этот вывод рассматривается как научный результат. В самом деле. Представьте, что у вас кошка окотилась и принесла трех совершенно черных котят. Правда, у одного на кончике хвоста белые волоски, а у другого белое пятнышко на ухе, третий же весь угольно-черный. Выражаясь обыденным языком, два черных котенка имеют "особые приметы". По ним вы и будете их различать. В прочих случаях, если мы и вынуждены сравнивать объекты по частям, потому что в целом они похожи, то исходим из сравнения частей, аналогичных по функции или по важности для характеристики данного объекта как такового. Разумеется, всегда можно сконструировать хитрые картинки наподобие игры "найди десять отличий", где одно из отличий будет в том, что на левой картинке паутина в углу на потолке, а на правой - в углу на полу. Так ведь игра и состоит в отказе от обычных способов сравнения!
Конференция собрала, по моим наблюдениям, человек 80-100. Меня крайне удивил преобладавший на ней стиль: хотя народ был все больше молодой, можно было подумать, что участники приехали не поспорить о чем-то, что для них является делом жизни, а дабы соблюсти некие ритуалы. Мне неоднократно приходилось организовывать Круглые столы и вести заседания в тесных залах, где сидели на подоконниках и даже на спинках стульев, одним было не видно, другим - плохо слышно. Но эти неудобства материального свойства не очень замечались, потому что всегда был накал страстей, споры по существу и вопросы на засыпку. В Эдинбурге действо совершалось в небольшом концертном зале безупречных пропорций. Никто не досадовал, что мел опять не пишет, поскольку доски не было, а тексты всех докладов дублировались на экране с помощью проектора (я так и не поняла, зачем показывать весь текст, а не таблицы и примеры). Регламент соблюдался так строго, что на вопросы почти не было времени. Я все думала: что это мне напоминает? Пожалуй, какое-нибудь московское протокольное мероприятие вроде заседания Комиссии по... Да и там все шло гладко, пока кто-нибудь не произносил такие взрывоопасные слова, как "массовая культура" или "толстые журналы", после чего закипали наши обычные страсти.
Предвижу недоумение читателя - а потому я все это принимаю так близко к сердцу? Всегда один доклад лучше, другой - хуже; там была дискуссия, тут не было дискуссии, что из того? А то, что как профессионал, я более всего обязана именно западной, преимущественно американской психологии конца 50-х - начала 60-х годов. Это были героические времена! В Гарварде вместе работали Джордж Миллер, Роман Якобсон, Джером Брунер, Клиффорд Герц - пионеры нового подхода к языку и познанию, к изучению информационных процессов, к отношениям человек-социум. И их главные работы доходили до нас с не слишком большим опозданием.
Конечно, история науки не может быть представлена в виде цепочки: сначала пришел А и сделал все это; потом его книгу прочел Б, не согласился (или согласился) и так далее. Скорее, это богато и причудливо изукрашенная ткань наподобие гобелена, где нити пребывают в сложном сплетении, узелки видны то с лица, то с изнанки, иногда проглядывает основа и опять прячется... Ткань - это сложная структура, а не хаос. История науки как части культуры имеет свою структуру и свои законы. Пренебрежение прошлыми достижениями (равно как забвение ошибок) ведет к примитивному видению проблем, решаемых сегодня.
В 1990 году в книге "Acts of meaning" ("Значение и операции с ним") Брунер предостерегал своих коллег от неосознанного уподобления сугубо человеческих операций со смыслами тем алгоритмам, в соответствии с которыми работает компьютер. Впечатление, что Брунер не был услышан.
Впрочем, не все на конференции было так мрачно. Например, я услышала завораживающе интересный доклад француженки Даниэль Дюбуа о том, как мы сравниваем запахи. Современная наука (включая физиологию и биохимию) не имеет правдоподобных объяснений, касающихся механизмов различения запахов и их оценки как похожих-непохожих. Тщательно отобрав для эксперимента "наивных" испытуемых, Дюбуа с коллегами предъявила им 16 бутылочек с веществами, обладавшими "элементарным" запахом - будь то чеснок или ваниль. Испытуемые, до того никогда не имевшие дела с подобной задачей, должны были рассортировать бутылочки так, чтобы в одну группу попадали похожие запахи, в разные - непохожие. Потом испытуемые объясняли, почему у них получилась та или иная группа.
Когда на экране появилась таблица, согласно которой запахи ванили и корицы оказались особенно похожи, а объяснение именно таким, какого я ожидала ("так пахнет в кухне", "пирожные"), мне очень захотелось закричать: "Я же говорила!.." Ибо, как и слова обыденного языка, запахи классифицируются преимущественно на основе жизненного опыта, а не описываются на основе логических противопоставлений. Запахи бывают приятные и противные, напоминающие лес и траву или лекарства и аптеку; запах цветов или запах мазута и т.д.
Не менее любопытно то, что группы запахов у разных людей получились очень похожими, но когда испытуемым предлагалось сказать, чем именно пахнет из той или иной бутылочки, они вели себя по принципу "кто в лес, кто по дрова". Более всего сошлись во мнениях по поводу запаха лимона. Яблоко же пахло то грушей, то апельсином. Этот результат напоминает поведение испытуемых при именовании изображений обыденных предметов: покажите людям нарисованную чашку без блюдца или такое изображение миски, где неясно, из чего она - из глины, фарфора или стекла. Вам обязательно назовут кружку, вазу, розетку, тарелку для супа и т.д. Именование, т.е. присваивание объектам реального мира словесных ярлыков (запахи - тоже объекты) - особая операция, и установление классов похожих или непохожих объектов напрямую от именования не зависит.
Эдинбург - удивительный город. Он похож одновременно на Москву и на Петербург. Не архитектурно, конечно, а генетически.
Старый Эдинбург рос и развивался органично, как многие европейские города: разрастался вокруг крепости, стоявшей на самом высоком из близлежащих холмов. Если под холмом не было реки, как в Москве или в Праге. то вырывали ров. И по сей день по склонам бывшего рва (ставшего вначале болотом, а позже - парком) лепятся дома и домики, храмы поменьше главного собора, лавки, аркады, узкие лестницы с железными перильцами. Никаких горизонталей, площади невелики, горбаты и зажаты меж стенами: проходы между домами неожиданны, лестницы круты, с каждого поворота - иной вид на скаты крыш. флюгера, силуэты петушков на шпилях соборов... Если забраться повыше, видно море.
Уже мало кто помнит старое московское Зарядье, его каменные лесенки, церкви и церквушки с цветными изразцами и папертями на разных уровнях. площадки и закоулки. Еще в 50-х годах на жизнь этого городка в городе можно было часами смотреть сверху, с Варварки. В старом Эдинбурге есть много подобных мест - это улицы, которые называются "мостами" - но не потому, что внизу некогда были речки, а потому, что эти улицы перекинуты через другие улицы. Есть и улица, называемая "террасой" - она идет на высоте примерно третьего этажа вдоль каменной стены в виде глухих арок, увитых плющом (он зеленеет и в декабре). Внизу же, параллельно, еще один тротуар на уровне первого этажа и неширокая проезжая часть.
В детстве, когда мне случалось попасть в Зарядье, это походило на настоящее путешествие - так сильно все отличалось от центра Тверской, где мы жили. Машин практически не было, церкви я помню закрытыми, зато завораживала их миниатюрность, домашность. Няня моя крестилась на все надвратные образа (или на места, где эти образа некогда были), я озиралась в неожиданной тишине, поедая глазами ступени из плит, узорчатость изразцов и погружаясь в волшебство. Эти детские ощущения - именно ощущения, а не воспоминания, вдруг ожили в старом Эдинбурге. Наверное, из-за его уплотненности и "каменности", а еще - из-за обилия лестниц и площадок, откуда можно наблюдать за жизнью города, как если бы она протекала в ином измерении, чем твоя собственная жизнь.
Собственно, затем и путешествуют, чтобы открыть для себя иные измерения. Таким открытием стал для меня "Новый Город" - часть Эдинбурга, построенная по плану в начале прошлого века, при короле Георге IV. Мне повезло по принципу "не было бы счастья...". В отличие от остальных участников конференции, которые жили в респектабельных гостиницах, меня - по бедности - определили "на постой" в частный дом в соответствии с английским обычаем "bed and breakfast" (ночлег и завтрак). Так я оказалась гостьей Дженет Ли, владелицы квартиры на Кэмберленд Стрит, в доме 1823 года постройки.
Кэмберленд Стрит и другие подобные улицы и площади Нового Города строились по принципу ансамбля, т.е. проектировалась сразу улица или несколько улиц и прилегающая к ним небольшая круглая площадь со сквером посередине (если бы я писала по-английски, мне пришлось бы сказать чтонибудь вроде "с зелеными насаждениями посередине", поскольку square и значит 'площадь').
Фасады, нарисованные георгианскими архитекторами, я созерцала вечерами в увражах, которыми меня снабдила Дженет - страстная путешественница и знаток старины. Утром я могла убедиться в том, что Новый Город за полтора века не претерпел почти никаких изменений. Разве что тесаный камень цвета сепии, которым облицованы почти все постройки, включая школы, церкви и больницы, приобрел более глубокий, бархатистый оттенок. Жилые дома, как правило, в три этажа с глубоким подвалом, окна которого начинаются на уровне земли и' уходят вниз, так что образуется утопленный в земле крошечный дворик, вымощенный плитами, обычно с ухоженным растением в кадке. Иногда там квартира, а то и маленький магазин, "лавка древностей" или художественная галерея.
Однажды вечером я видела через окно, как внизу пылал камин - это был маленький паб.
Чтобы войти в подъезд первого этажа, поднимаешься по лестнице, образующей своего рода мостик, арка которого разделяет дворики соседних подвалов. Массивная боковая стена у такого мостика иногда в плюще, иногда покрыта мхом. Фонари, освещающие улицу, стилистически и пространственно увязаны с металлическими перилами лестниц-мостиков: фонарные столбы тонкие и невысокие, декор минимален, лампион круглый и ощущаешь его не где-то над головой, а рядом.
С небольшими вариациями так застроен весь Новый Город, не считая нескольких главных торговых улиц. По расчисленности и геометризму это напоминает Петербург. Хотя, правду сказать, бывая в Петербурге, я никогда не ощущала его "умышленность" - разве что в своих любимых, подчеркнуто торжественных и декоративно-театральных местах - на улице Росси, в Новой Голландии. В Эдинбурге у меня были схожие ощущения - наверное, за счет того, что я оказывалась одна среди безупречного изящества улиц Нового Города. Мокрые плиты мостовой неизбежно приводили к очередной купе вековых деревьев, которые возвышались над круглой решеткой в центре площади, как если бы в подстаканник поместили букет цветов.
А я уже в Москве листаю книгу, изданную Даниэль Дюбуа, и предвкушаю чтение статьи ее коллег о сходстве обычных домашних шумов, которые мы описываем словами скрипит, жужжит, царапает, тикает, позвякивает, шелестит, шуршит.
И вспоминаю Эдинбург.
Источник: Фрумкина Р.М. И выпуклая радость узнаванья... // Человек, 1998, № 6.
Раздел(ы): Библиотека, Р.М. Фрумкина | Добавлено 1 декабря 2005 г.